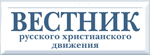Ольга Седакова
Солженицын для будущего
Несомненно, Солженицын — в будущем. Прежде всего потому, что все большие авторы и все значительные мысли — в будущем. Это утверждение не так оптимистично, как может показаться. Оно предполагает: в настоящем — в нашем общем настоящем — их еще нет, их по-настоящему не прочли и не услышали. Странно складывается история: в течение тысячелетий люди написали и сказали больше, чем прочли и услышали. Однажды в венской гостинице со мной заговорил портье, который сидел на своем рабочем месте, выдавая и принимая ключи постояльцев, и читал «Повести» Льва Толстого (в немецком переводе, разумеется). Он сказал: «Когда Россия прочтет Толстого, все будет иначе». Среди повестей, которые читал портье, был «Хаджи Мурат», а время было — чеченская война. Сколько раз в самых разных местах я слышала — и сама говорила — что-то похожее, вспоминая при этом разные имена: «Когда прочтут Пушкина...» Наравне с будущим временем здесь употребимо сослагательное наклонение: «Если бы прочли...» Да, конечно: «Если бы Россия прочла Солженицына, все было бы иначе».
Но что в этом случае значит: «Россия прочтет» или «Если бы Россия прочла»? Мы привыкли думать, что писатель в России обладает такой значительностью, как, может быть, нигде больше (во всяком случае, в новые времена), что литературе («святой русской литературе», как назвал ее Томас Манн) принадлежит совершенно особое место в нашей общественной жизни. Этот «литературоцентризм» русской культуры, совершенно очевидный, то положение, при котором писателю приходится брать на себя задачу морального учителя, историка, философа, религиозного мыслителя, даже политика и практического деятеля, в недавние времена многие пытались обличить и преодолеть[1]. Но стоит задуматься вот о чем. Итальянцы говорят, что роман А.Мандзони «Обрученные» сделал для объединения Италии больше, чем все политические движения этого времени. Англичане знают, что после романов Ч.Диккенса многие вещи исправились в английской социальности (приюты, обращение с детьми и т.п.). Можем ли мы сказать, что «Бедная Лиза» Карамзина хоть немного ускорила отмену крепостного права? (А это и был бы случай Диккенса!) Или что после романов Толстого и Достоевского, которые поражают читателя во всем мире глубиной и страстностью своей человечности, российская жизнь (я имею в виду практическую социальную жизнь) хоть в чем-то стала гуманнее и светлее? Как понять это странное положение: глубокая, гуманная, мудрая словесность — и социальная жизнь, в которой достоинство человека унижено больше, чем это допустимо в самой «средней» европейской стране? Я думаю, дело в том, что те в России, кто действительно читали и прочли Толстого, Достоевского, Пушкина, Солженицына, никогда не могли оказать никакого практического воздействия на ход событий в стране. Власть же, от которой у нас зависит все, никогда ничего этого не читала (в том смысле, что не принимала всерьез) и ничего общего не имела с великой словесностью собственной страны.
Так что будущее время или сослагательное наклонение в той фразе, с которой я начала: «Когда Россия прочтет Солженицына» или «Если бы Россия прочла Солженицына», означает по существу такую глубочайшую перемену нашего положения, при которой читатели Солженицына смогут влиять на практические решения — или же: при которой те, кто эти решения принимают, окажутся читателями Солженицына. Самый простой пример: если бы Солженицын был в России к настоящему времени прочитан, просто невозможно было бы наваждение всех этих мутных восторгов по поводу сталинского «эффективного менеджмента», которые раздаются теперь отовсюду и даже вводятся в школьные учебники, невозможно было бы продолжать безумное взвешивание: «с одной стороны» — «с другой стороны». С одной стороны — ГУЛАГ, с другой — ... Что это за существо, которое может думать в таком случае о «другой стороне»?
Будем надеяться, что это существо еще не прочло Солженицына и у него все в будущем.
Что говорит Солженицын своему будущему читателю? Начнем с того, что он сказал нам, его читателям советских времен, жизнь которых (во всяком случае, «внутренняя жизнь»[2]) от этого чтения переменилась. Во-первых, как ни странно это покажется, он сказал нам слово надежды и ободрения. «Стало видно далеко вокруг». Многие читатели этих запрещенных машинописных копий или зарубежных томиков (и я среди них) только из них впервые узнавали о размахе того нечеловеческого зла, о котором повествует Солженицын. Но этим новым знанием, которое могло бы убить неготового человека, сообщение Солженицына никак не исчерпывалось. Оно говорило — самим своим существованием, самим ритмом рассказа — другое: оно давало нам со всей очевидностью пережить, что даже такое зло, во всем своем всеоружии, не всесильно! Вот что поражало больше всего. Один человек — и вся эта почти космическая машина лжи, тупости, жестокости, уничтожения, заметания всех следов. Вот это поединок. Такое бывает раз в тысячу лет. И в каждой фразе мы слышали, на чьей стороне победа. Победа не триумфаторская, какие только и знал этот режим, — я бы сказала: пасхальная победа, прошедшая через смерть к воскресению. В повествовании «Архипелага» воскресали люди, превращенные в лагерную пыль, воскресала страна, воскресала правда, как будто похороненная на наших широтах навсегда, воскресал человек — благополучный «винтик» этой машины, прошедший «путем зерна», воскресший в страдании и гибели. Христианская компонента Солженицына, на мой взгляд, состоит именно в этом — редчайшем и среди глубоко верующих людей — знании силы воскресения, его «непобедимой победы». Про кротость все помнят, про смирение все говорят, про милосердие, думаю, многие скажут больше, чем Солженицын, о чистоте тоже — но эту взрывающую мирозданье силу воскресения никто, вероятно, так передать не мог. Воскресение правды в человеке — и правды о человеке — из полной невозможности того, чтобы это случилось. Когда говорят о пророческом начале Солженицына, чаще всего имеют в виду обличение неправды и зла настоящего положения дел, которые во всем своем размахе и во всей своей непозволительности видны только с неба, как это было у библейских пророков. Но главная весть пророков все же не в этом: эта весть состоит в прямой демонстрации невероятной и непобедимой силы, которая нас, вопреки всему, не оставила и не оставит.
В этом — так я думаю — главное сообщение Солженицына для будущего. О другом можно еще долго думать. Мысли, предложения, отдельные позиции Солженицына-художника, Солженицына-историка, Солженицына — государственного мыслителя можно еще долго обсуждать, спорить с ними или соглашаться. Но это сообщение или, лучше, это невероятное событие «непобедимой победы» всегда будет укреплять человека — и не только в России, о которой он больше всего думал: как вся «святая русская литература», Солженицын говорит со всем миром.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Признаюсь: не понимаю зачем. Как будто освобождаться требовалось не от того, что в нашей истории страшно, а от самого лучшего в ней, от того, что, может быть, оправдывает само существование нашей страны.
[2] Чтобы переменилась не только внутренняя, но и внешняя жизнь, требовалось необычайное мужество, которым мало кто обладал.