Борис Вильде

|
БИОГРАФИЯВильде Борис Владимирович (8/21.7.1908, ст. Славянка под Петербургом – 23.2.1942, Мон-Валерьен, близ Парижа) — поэт, прозаик, литературный критик, журналист, этнолог. Родился в семье железнодорожного служащего. В 1919 выехал с матерью из Ямбургского уезда в Эстонию. Жил в Йыхви, затем в Тарту. Окончил русскую гимназию в Тарту (1926). Учился год на физико-математическом факультете Тартуского университета (оставил в связи с тяжелым материальным положением). Член литературного объединения «Юрьевский цех поэтов» (Тарту, 1929). Летом 1930 уехал в Германию. Поселился в Берлине. Работал журналистом, библиотекарем; выступал с лекциями о русской культуре (под именем Ивана Ястребинского). В 1932 перебрался в Париж. Окончил историко-филологический факультет Сорбонны и Этнографический институт. Участник парижских литературных объединений «Круг», «Кочевье», посещал литературные собрания «Зеленая лампа». В июле 1934 женился на Ирэн Лот дочери французского историка Ф.Лота и сотрудницы русского журнала «Путь». В 1936 принял французское гражданство. Работал при европейском отделе парижского «Музея Человека» (с 1937). В 1939–1940 служил во французской армии. Был в немецком плену. После побега организовал одну из первых групп французского Сопротивления (в июле 1940). Нелегально издавал орган движения газету «Resistance» («Сопротивление») (Париж, 1940–1941). Название газеты стало символом борьбы французского народа. В марте 1941 был арестован нацистами, вскоре расстрелян в форте Мон-Валерьен. Посмертно награжден медалью Сопротивления. В приказе о награждении говорилось, что «выдающийся пионер науки», Вильде «целиком посвятил себя делу подпольного Сопротивления с 1940 г. Будучи арестован гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей пример храбрости и самоотречения». В 1945 журнал «Europe» опубликовал «Диалог в тюрьме» («Дневник и письма из тюрьмы. 1941–1942» / Пер. с фр. М.А.Иорданской. — М.: Русский путь, 2005), написанный Вильде после ареста в октябре-ноябре 1941. Печатал повести, рассказы, литературно-критические эссе в сборнике «Новь» (Ревель, 1928–1935); журналах: «Брюссельский вестник» (Брюссель, 1932–?), «Встречи» (Париж, 1934), «Русский магазин» (Ревель, 1930–?), «Полевые цветы» (Нарва, 1930); газете «Руль» (Берлин, 1920–1931). Писал стихи на русском и французском языках. Подписывался также псевдонимом: «Борис Дикой». КНИГИ
БИБЛИОГРАФИЯВоспоминания и свидетельства
Исследования
Можно также прослушать свидетельства о подпольной деятельности в Музее человека, собранные Франсисом Кремьё для серии передач на радио RTF. ССЫЛКИ
|
Борис Вильде Избранные цитаты из «Дневника и писем из тюрьмы»
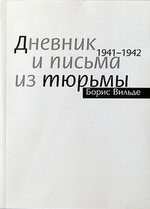
Ниже публикуются два письма к жене и избранные цитаты из дневника Бориса Вильде, одного из основателей движения Сопротивления во Франции, которые он писал в тюрьме, ожидая приговора. Борис Вильде был арестован гестапо за подпольную деятельность в марте 1941 года и расстрелян в феврале 1942 года. Он мужественно принял смерть, подготовив себя к ней духовно, преодолев страх и отчаяние. На страницах дневника он пытается зафиксировать свой процесс «очеловечивания», лучше понять самого себя, размышляет о прочитанных книгах, подводит итоги. Главные темы, которые он пытается осмыслить в этот период: смерть, любовь, «я». По этому принципу и сгруппированы подборки цитат.
Письмо к жене от 16 января 1942 г.
вот после-предисловие к моим «Френским листкам». Это жестокий подарок, и я знаю, что многие страницы заставят Вас страдать. Но сама эта жестокость есть знак моей совершенной уверенности в Вас и в Вашей любви, нашей любви.
Я написал эти страницы исключительно для самого себя, местами это только маяки на пути моей мысли (а множество деталей останутся для вас непонятными, но это неважно). Я собирался уничтожить их, был готов сделать это, поскольку после последних строк (в среду 7 января) мне больше нечего добавить к ним, все стало настолько ясно и правильно, что у меня больше нет нужды даже в себе самом.
Но будет хорошо, если Вы ознакомитесь с этим дневником. Не хочу, чтобы Вы сохранили обо мне ложное представление. В письмах я выразил вам лучшее, что есть во мне, будет справедливо, если вы узнаете и о моих слабостях и недостатках. Боюсь, как бы Вы не сочли меня слишком «ангелом». Я просто человек и, по правде говоря, горжусь этим (человек, быть может, ценнее ангела).
Эти листки не представляют никакого литературного или философского интереса. Но они искренны.
Отправной точкой стало нечто, виденное мной в Санте: одно время я выполнял там мелкую работу, и вот однажды, убираясь в освободившейся камере, обнаружил на обрывке оставшейся от передачи оберточной бумаги такую простую и банальную фразу, написанную, возможно, женой заключенного: я тебя люблю. Я увидел тогда необъятное солнце любви, светящее в тюрьме.
В Санте у меня не было ни бумаги, ни карандаша. Только во Френ я начал записывать свои мысли. Понемногу я привык и стал находить в этом некоторое удовольствие. Вот каково происхождение этого дневника. Быть может, он послужат комментарием к моим письмам. Это частичка меня.
До тех пор, пока жизнь противопоставляют смерти, мы ничего не достигнем. В них нет противоречия. Одна дополняет другую, продолжает, завершает. Так же, как нет противоречия в двух разных полах.
Смерть не есть отсутствие жизни, она сама есть. Но мы не можем иметь никакого понятия о состоянии смерти, поскольку все наши понятия принадлежат этому трех- (четырех-?) мерному миру. Так слепорожденному никогда не представить себе света и красок.
Какое же, в итоге, чувство преобладает сейчас в моей жизни? Трудно сказать, это не всегда одинаково. Сейчас, наверное, такое: не то чтобы неотвратимость, но внутренняя необходимость ее. Думаю, что я переживаю, наконец, величайшее приключение в своей жизни, мое приключение, таков экзамен, в перспективе которого вся предыдущая жизнь — только подготовка. Экзамен сложный, и я горжусь этим. А если завалю — что ж, буду хотя бы допущенным!
Жизнь и смерть — две неисчислимые величины.
Приходил прокурор, чтобы «познакомиться со мной». Пообещал, что мне не сносить головы. Никакого впечатления. Позднее, размышляя над этим, я был поражен собственным бесстрастием. Не то, чтобы я сомневался в серьезности его слов, как раз напротив. Просто мне это не представляется таким уж важным. И все-таки я люблю жизнь. Господи, как я ее люблю! Но я не боюсь умереть. Быть расстрелянным — в каком-то смысле логичное завершение моей жизни. Кончить с блеском. Каждый кончает с жизнью по-своему.
Всеобъемлющая любовь должна любить смерть. Речь не идет о том, чтобы победить ее. Чего человечество никогда не смогло сделать, так это победить страх смерти, да еще… Однако тому, кто сумеет достичь такой нечеловеческой любви к жизни, охватывающей саму смерть, уже нечего побеждать и нечем быть побежденным. Но такая любовь смертельна.
Смерть… Я не чувствую ни страха, ни презрения. Любовь. Победить смерть — значит полюбить ее.
Понять — значит простить, вот нонсенс: если мы кого-то понимаем, то знаем, что прощения уже не нужно, мы становимся сообщниками. Но мы редко понимаем кого-нибудь до конца. Принимать, не понимая, — вот начало любви.
…Сущность моих чувств к Ирен — в безотчетном предчувствии (предведении) другой Ирен, которой она сама не ведает и которая может открыться мне одному. Более того — только при соприкосновении с ней я открываюсь самому себе до конца. Друг для друга мы единственные…
Совершенная любовь не что иное как радость. Такая любовь сверхчеловечна, смертельна. Мы измеряем глубину любви страданием. Быть может — это боль от сознания нашего поражения, знания того, что мы ни к чему не придем?
<...> В чем состоит любовь? В освобождении от «я» — реальном или мнимом. Иногда это лишь расширение тюрьмы: как в случае материнской любви, когда любят своего ребенка и т.д. такой же может быть и любовь к своему мужчине, своей женщине. Любовь не слепа; просто она смотрит дальше, сквозь.
Любовь не имеет разумного основания, она всегда чудо. Там, где знают, почему любят, любовь под вопросом. Это прежде всего состояние души. Но как же трудно различить настоящую любовь за всеми заглушающими ее сорняками: желанием, ревностью, самолюбием, жалостью, дружбой.
Избирательность в любви? Любовь божественная, то есть совершенная и абсолютная, охватывает собой все. Но и самая мелкая любовь, какой бы ничтожной она ни была, заключает в себе частицу божественности (даже любовь как плотское наслаждение). Истинный акт любви это созерцание в радости и это всегда творчество.
Запретное древо не есть древо познания..., а древо познания добра и зла, другими словами морали. И это понятно: совершенная любовь не знает ни добра, ни зла; она выше них; рассуждать о морали человек начинает только утратив духовное единство в любви и ища выхода в механистическом подходе, что и есть мораль... Человек обрел самосознание, но утратил, возможно навсегда, чувство реальности единственной и абсолютной. Он становится замкнутым в себе существом-одиночкой, способным создать независимый от окружающей его природы внутренний мир. Это то, о чем говорит змей: вы будете как боги, знающие добро и зло (Быт 3:5). Впрочем, Бог сам признается в ревности к человеку: вот, человек стал как один из нас (Быт 3:22) и именно из-за этого Он воспрещает человеку есть плоды с древа жизни (см. у Гераклита: человек это смертный бог, бог это бессмертный человек).
Другое место: совершенно неправильно представлять грехопадение как половой акт. Судя по всему, Адам и Ева любили друг друга прекрасно и совершенно еще до вкушения запретного плода: их любовь не знала стыда (Быт 3:7). Грехопадение, напротив, есть распад любви: каждый из двоих любящих оказывается замкнутым в собственной индивидуальности, их союз становится плотским и лишенным полноты.
С необычайной силой ощутил присутствие Ирен. Реальное присутствие. Знаю, что она думает обо мне так же много. Наша любовь не связана с материальным миром, она превыше счастья… Как подумаю о волшебной случайности нашей встречи… У нас был ничтожно малый шанс повстречаться:
Et que c’est long le temps, et que c’est grand le monde,
Et que nous aurions pu ne pas nous rencontrer.
(Р. Géraldy)*
*И потому, что время долго и потому, что мир велик,
И потому, что мы могли никогда не повстречаться.
(П. Жеральди)
Эта встреча — величайшее событие моей жизни, решающий переворот. Предательство себя и своей судьбы? Скорее, я верю, что мой брак был по-настоящему «schicksalhaft» (зд. судьбоносный (нем.).
Я не раскаиваюсь в том, что заставил Ирен страдать: страдания, даже отчаяние драгоценнее счастья. Самое главное, в чем я виноват перед ней, это что не привлек ее к своей деятельности, не подверг опасности. Надеюсь, она меня простит.
Справедливость и любовь. Идея справедливости, тысячелетняя идея, источник всей нашей цивилизации (до христианства) настолько прочно утвердилась в нас, что мешает пониманию откровения религии любви. Паскаль ненавидит человека (ненавистное «я» и т.д.), потому, что тот не кажется ему достойным любви. Это справедливо – его ненавидеть, а Бога одного любить и т.д. Позднее Ницше будет бояться задохнуться от нежности к человеку, недостойному этого. Он ищет сверхчеловека, который будет достоин быть любимым (Паскаль отрекается от человека ради Бога, Ницше отречется от Бога ради человека, но идея справедливости присуща обоим). Но что в любви действительно чудесно, так это отсутствие и ненужность всякого оправдания. Когда же любовь справедлива – это уже не чудо и, стало быть, речи нет о любви.
Нет заслуги в том, чтобы любить Бога, если презираешь человека и земную жизнь; становится естественным любить человека, когда больше нет богов. Любовь больше: «люби врага» не означает «люби того, кто считает тебя своим врагом», но «люби того, кого ты считаешь своим врагом». На первый взгляд, это парадокс или абсурд, но это единственно правильное толкование евангельского слова (думаю, Ницше подошел к пониманию этого)...
Я не умею ненавидеть (из-за гордости), но умею презирать. И я учусь любить – еще плохо, неуклюже – у меня есть предчувствие настоящей любви, той, что, возможно, и есть смерть.
Не так важно, что мы любим (совершенная любовь охватывает все, но даже самая жалкая и бедная любовь несет печать божественности), это прежде всего душевное состояние. Любовь не может быть безнравственной, поскольку она превосходит нравственность. Понять, значит простить – не вполне верно. Понять – значит стать причастным.
Любовь заставляет страдать, всякое новое познание – это новое страдание. Но муки любви драгоценнее блаженств (?) веры.
Надежда не имеет к любви никакого отношения. Скорее отчаяние. Познавший любовь способен понять отчаяние. И наоборот.
Письмо от Ирен, помеченное 1-м декабря, — в этом оправдание всей моей жизни. На страшном суде мой ангел-хранитель положит это письмо на весы, и оно перевесит все мои грехи, пороки и невоздержание.
Я, однако, понимаю, что ничем не вдохновил такой любви, не распахнул перед Ирен дверей вечности. Любовь всегда — чудо. Но я горжусь тем, что с самого начала разгадал в Ирен способность к этому духовному возрождению. Это был долгий путь, и я не раз отчаивался. Разумеется, я никогда не недооценивал нравственных и интеллектуальных качеств своей жены, ни ее преданности […]. Но что мне было делать со всеми ее качествами? Я плевал на все, потому что я эгоист, поверхностный и безнравственный, даже циничный, если хотите. Какое мне дело. Но пути Господни неисповедимы. Как тут не поверить в судьбу?
Какой парадокс! Я вызвал сострадательную любовь! И, однако, это правда, в той мере, в какой эта любовь обращена к моему бессмертному существу. У меня нет христианского смирения. Что касается бл. Августина, то тут Ирен права.
Приходила Ирен. Мне удалось поцеловать ее. Такой чистый и такой напряженный поцелуй, что у меня чуть не выступили слезы. Я, однако, не заплакал (ни разу не плакал в тюрьме), но почувствовал себя опустошенным этой столь болезненной радостью. Любовь похожа на смерть.
В одиночной камере — вот где человек проявляется в полной мере. Мудрость в сравнении с умом то же, что доброта в сравнении с вежливостью. Счастье приобретается только страданием. Не счастье, так ясность.
Как возвращается в меня человеческое. История моей жизни это история моего очеловечивания. Теперь же оно завершается. Я созрел для жизни или для смерти, ни та ни другая меня не страшит. Не так, как раньше, иначе — не от безразличия, а в принятии и согласии. Я наслаждаюсь новым покоем, как человек с окаменевшим сердцем, к которому вдруг вернулся «слезный дар». Только я открываю в себе не слезы, а, скорее, благодать улыбки.
Освободиться: человек дважды пленник: этого мира из трех (четырех?) измерений и своего «я». Откуда его одиночество? Каковы пути освобождения и единения? В Боге (Бердяев). Искусство, любовь, смерть («Спаркенброк»). Только смерть освобождает нас (если зерно не умрет) полностью. Любовь (акт любви) есть про-образ смерти. Ее опыт дает предведение смерти. Отсюда — ужас пробуждения (страшное одиночество на двоих). «Post coitum…» И все же это стоит того. Несколько мгновений бессмертия дорогого стоят. Опиум, музыка, даже спорт (опасный)… Но существуют также чистые экстазы, приходящие изнутри, без внешней провокации. Мгновенья, когда я чувствую, знаю, что имею часть в жизни вечной. Такое случается крайне редко и приходит безо всякой видимой причины, разом прорывая кокон одиночества, проницая стенки «я». Это не уход в забытье (как с опиумом), не экстаз соединения с другим узником (любовь), и еще не окончательное освобождение (смерть), это отпуск, краткий побег ко благу. Правда, вас снова ловят, но вы хотя бы мельком видели свободу.
<...> Поэтому сейчас нам так необходима человечность. Быть человеком прежде, чем быть немцем, солдатом, судьей, самцом, отцом, католиком, художником. Это представляется таким недостижимым в наши дни (да и всегда). Давно стремлюсь к этому, но не достигаю и наполовину. Во всяком случае, я научился простоте, это много.
Тюрьма ничего не дает, но она действует на меня как проявитель на пленку. Это как темная комната… Откровенно говоря, я нахожу, что тюрьма приносит мне самое большое благо (я, как всегда, извлекаю пользу из несчастья)…
Два пути: упразднить сознание (забытье, искусственный рай), либо расширить «я». Оба ведут лишь к половинчатому решению. Радикальное решение: смерть или любовь.
Сознавание самого себя — это зеркало нашего «я». Подобно физическому зеркалу, мы даем себе отчет в нашей внешности. Наше «я» находится в непрестанном движении, сознание действует в нем пунктиром, мгновенными вспышками; если попытаться проследить «я» в его непрерывности, «я» будет загнано в рамки, окажется подчиненным некой роли и т.д.
Существуют два «я»: одно самоутверждается, противостоя внешнему миру, это индивидуальное «я», включающее и тело; другое же стремится освободиться от первого и так же сильно противостоит телесному «я», как и к «я» первого сознания (в действительности оба составляют одно). Его можно было бы назвать (в той мере, в какой оно зависит от «я» первого сознания) «я» отраженного сознания, или же личным «я». Оно ощущает себя полностью отделенным от тела. Оно не умаляется в немощи и болезни. Но оно ощущает себя в той же мере отделенным, в некотором смысле, от сознания № 1: «Я не мог этого сделать, это был не я». Там, где оно очень развито, оно оказывается выше (ниже) понятий добра и зла, удовольствия и страдания. Именно оно в действительности и претендует на бессмертие. И ему знакомо одиночество.
«Я» (сознание № 2) это движущая сила развитой психической жизни. Эгоцентризм — один из основополагающих принципов механизма познания, и т.д. (ср. язык). Никакого наследственного эволюционизма. В основании: материализм или, скорее, иррациональный монизм.
И все же, как подумаю о других… Что до меня, то я привык к одиночеству и чувствую в себе достаточно внутренних сил, чтобы начать с математики и, пройдя через внутренний диалог, закончить под покровом Майи. В конце концов, мне всегда остается мое прошлое, и на крайний случай — атараксия. Но как подумаю, что в тюрьме сидят люди молодые, без культуры, без внутренней жизни, привычные к физическому труду, каждодневному притуплению сознания. <…> С другой стороны, верно и то, что я теряю больше них. Я умел наслаждаться. Мне, к примеру, недостает природы и т.д. Я теряю бесконечно более других, но даже с тем, что у меня осталось, я все еще богаче их. Все же у меня всегда остается возможность почти неограниченного обогащения.
В обыденной жизни мне случалось быть очень (может быть, даже слишком) общительным. Однако одиночество не тяготит меня (а ведь большинство заключенных жестоко от него страдает). Значит ли это, что я внутренне богаче них? Скорее, что я всегда, даже в обществе, был словно один, так и появилась привычка. Стены камеры только укрепляют индивидуальность, которая замыкается на себе самой.
Беда этой цивилизации в том, что она переполнена техникой. Человек уже не хозяин собственной жизни, он отрекся от своей власти в пользу индустриализации, коллективности, анонимности. Масса. Ср. пример кино: оно воспитывает публику, но само лишь приспосабливается к ее вкусам. Так появляются люди-типажи, идеалы-типажи, стандартные жизни, одинаковые любовные истории и т.д.
Однако было бы неверным считать, что это явление свойственно только нашему времени и нашей цивилизации. Этот феномен того же рода, что и приведший за много веков до того к торможению китайской цивилизации. Склонность к инерции, закон наименьшего усилия. Достигнув определенного уровня владения материей, человечество устремилось к материальному развитию и совершенно пренебрегает развитием духовным. Это бегство, малодушное отступление. Но случилось так, и в этом отличие нашего случая от китайского, что само средство, которое должно было обеспечить человечеству стабильность и упрочить мирный сон души, обернулось против него. Нынешняя война – только относительно невинная борьба с утратой человечеством контроля над собственными движениями. И люди пока что не отдают себе в этом отчета.
В тюрьме Санте я начал размышлять о «самом важном» и о самом себе. В какой-то момент я заметил, что у меня, человека думающего, нет ни единой мысли ни о душе, ни о смерти, ни о Боге и т.д. Как такое может быть? Еще в 1932 году я располагал настолько точной и красноречивой картиной мира, что даже привлекал адептов (имею в виду Рокко)! Эклектичная абстрактная картинка, занятная смесь теософии, антропософии и рационального монизма… Но с тех пор, как у меня стало больше времени для философских построений (а кроме того я очень восприимчив), внутренняя трансформация шла подспудно, и когда это вышло на поверхность, я нашел лишь смутные чувства и стремления.
Вижу ли я яснее теперь? Я всегда могу определенно утверждать следующее: 1) я не верю в индивидуальное бессмертие, но в вечную жизнь духа; 2) я не боюсь смерти, но глубоко люблю жизнь со всеми ее материальными проявлениями; 3) я перестал быть мудрецом и стал (снова стал) человеком, это поражение — моя великая победа; 4) раз уж так случилось, у меня нет ни сожалений, ни угрызений совести, все, что было в прошлом, представляется мне логичным и необходимым развитием собственного бытия.
Кажется, это уже что-то! К этому следует прибавить лучшее знание самого себя и понимание тех чувств, которые я внушал окружающим. Откровенно говоря, я нахожу, что тюрьма приносит мне самое большое благо (я, как всегда, извлекаю пользу из несчастья)... Верно, что у меня всегда остается способ покончить с этим — ultima ratio — но это претит моему чувству прекрасного. Суицид — высший акт человеческой воли, если только он не обусловлен какой-либо внешней причиной, иначе он превращается в случайность или малодушие. И потом, есть Ирен.
Самоубийство. Акт, в котором человек превосходит себя и реализует себя, уходя от естественной человеческой смерти. Но таким оно бывает редко (даже Кириллов в «Бесах» обязан пойти на самоубийство). Вне этой, единственно чистой, формы существуют: случайный поступок (обычно по малодушию) под действием момента, если же попытка не удается, кандидат счастлив и становится более чем когда-либо привязан к жизни (к этой категории относится большая часть случаев); акт самосохранения — например, старик, замечающий потерю умственных способностей, пленный, боящийся заговорить под пытками, больной, не желающий страдать; наконец, самоубийство по законам чести (игрок, проигравший чужие деньги и т.д.), которое, по сути, входит в категорию случайных поступков, с тем только отличием, что оно всецело спровоцировано социальным «я» и является своего рода самонаказанием. Только первый тип есть настоящее самоубийство.
Наслаждаюсь душевным покоем. Ни атараксии, ни покорности судьбе: скорее, некое приятие. И никакого нетерпения.
Беда не в том, что на свете слишком много страдания, а в том, что слишком много бесплодного страдания.
Бессмысленная боль унижает, а страдание оплодотворяет, преображает. Возможно ли превращать одно в другое?
Хорошая погода. Солнышко. Как же я понимаю поклонников божественного светила! Только что съел лимон, фрукт солнечный по форме или по происхождению. Я приучился нюхать виноград, груши, помидоры перед тем, как откусить. В обычной жизни мы не понимаем истинную цену «вещи в себе».
Тюрьма — это школа, обучение чувствительности.
Размышлял этой ночью о смерти. Это своего рода внутренний диалог, развернутый между двумя «я», каждое из которых настоящее. Затруднительно дать им точное определение, я просто назвал их «Я-1» и «Я-2»
Я-1. — Итак, милый друг, необходимо серьезно рассмотреть вероятность смертного приговора.
Я-2. — Нет, нет. Не хочу. Вся моя плоть протестует, она хочет жить. Давай как-нибудь вывернемся, защитимся, попытаемся бежать, только не смерть.
Я-1. — Полно! Ты говоришь несерьезно, неужели ты действительно так ценишь жизнь?
Я-2. — А ты? Только честно!
Я-1. – Инстинкт силен, но я умею рассуждать и заставлять повиноваться мое животное начало.
Я-2. — Животное начало? С каких это пор ты стал относиться к нему с таким пренебрежением? Скажи, тебе разве не доставляет удовольствия хороший обед, например? Ты только подумай: приступить к дюжине устриц из Маренны, а к ним взять прохладного Пуйи, на редкость сухого и терпкого, этого «строгого» вина, если можно так сказать. А потом голубой форели с таким нежным мясом, что поневоле вспоминаешь про закон о растлении малолетних. Или хочешь золотистого мерлана, словно луч солнца в воде? Или, может быть, буйабес, настоящий, знаешь, какой ты едал в Марселе в Старом порту, вовсю пахнущий морем, водорослями, баркой, и еще раз морем, этим первоисточником жизни? А? Затем, сударь, что прикажете подать? Мяса с кровью, кусок плоти, сырой, крепкой, красной, изысканной в своей грубости? Или простого добропорядочного кролика с горчицей? А может, цыпленка деми-дёй, лионское кушанье от матушки Фийу, помнишь?
А чтобы все это запить, попросим-ка хорошенько нам согреть старого доброго Шамбертэна 1916 года (того самого, что еще можно найти у Хутера в Каркассоне), или бутылочку Нюи-Кай, или классического Поммара 1926, в общем, одно из тех созданных из самой солнечной крови вин, которые вас согревают, вас возводят постепенно в солнечную область блаженного состояния безопасности, благожелательности, которые наполняют вас чувством благодарности к жизни и ко всему миру. Остальное допьем под сыр, дивно нежный и покрытый плесенью – как проза Оскара Уайльда (прости за нелепую чушь).
Не хочешь десерт? Ладно, возьмем настоящий крепкий горький кофе с экзотическим ароматом, навевающим мысли о караванах бедуинов, стихах Гумилева и о твоей юности в Берлине… единственная роскошь, доступная бедным интеллигентам, полным мечтаний, жаждущим жизни и счастливым, несмотря на нищету и Weltschmerz… И, конечно же, коньяк «Бисквит» 1870 года (или это был 1878?) в бокалах с широким дном и сужающихся к верху — берешь его в обе ладони, согреваешь, делаешь маленький глоток, ощущаешь легкое-легкое опьянение, разглядываешь его на просвет: сгусток жидкого солнца.
Хочешь египетскую «Абдулла», или тебе вершину сверхкультуры — «Голуаз»? Огня? Держи. Какая простая штука, спичка, и какая удивительная… Тебе ведь нравится этот обряд курения, не правда ли? И дым, который играючи свивается спиралью, развивается и бесследно исчезает, неуловимый как сама жизнь, как ты любил говорить.
Я-1. — Мой бедный друг, ты пытаешься настроиться на поэтичный лад, впрочем в весьма посредственном вкусе, чтобы живописать радости застолья. Это умственное расстройство, вызванное шестимесячным заключением. Но вещи все хорошие, признаю. И все же тебе не стоило подавать мне целый обед, когда голоден — и тюремная похлебка в радость. Пить и есть со вкусом, конечно, нужно, но не будем преувеличивать. Да, я любил благородные вина и вкусные блюда, но не настолько, чтобы они занимали все мои мысли. Я думал о них, садясь за стол и забывал, вставая. Нет, о них я бы не стал сожалеть. К тому же, я этим вполне насладился. Если начать злоупотреблять, наживешь больной желудок и подагру. Просто ты совсем изголодался здесь, в тюрьме, и оттого думаешь об этом с такой силой. То же самое и с табаком — мне его недостает, но не будем считать это вопросом жизни или смерти.
Я-2. — Но разве от интеллектуальных удовольствий ты откажешься с такой же легкостью? Подумай о тех книгах, которые ты хотел прочесть, и уже никогда не прочтешь, о путешествиях, которых никогда не совершишь, открытиях в языках, которые ты мог бы сделать, о полотнах, которых никогда не увидишь вновь (а ты помнишь, каким откровением была для тебя живопись на выставке итальянского искусства96); ты больше никогда не увидишь ни ботичеллиевой Венеры, ни солнца у Гогена, ни людей Родена.
Я-1. — Да, прекрасные вещи, но ты позабыл самую прекрасную — музыку. О, я отлично знаю, что ничего в ней не смыслю, но это не мешает мне любить ее. Не все, но есть отрывки, которые меня словно переворачивают, заставляют дрожать от волнения, которые приоткрывают передо мной иррациональную область реальности. Я имею в виду Моцарта, Бетховена и еще вступление «Хованщины» Мусоргского – вещь бесконечной нежности и прозрачности, которая все приемлет, все оправдывает, даже смерть, и не скорбит, а торжествует, растворяясь где-то в Нирване.
Это самое нематериальное и неопределимое искусство, создающее не переживания, а душевные состояния. Собственно, в музыке я люблю посвящение в тайну смерти.
Но разве я уже не достаточно посвящен? Что же дальше?
Путешествия? Да, вот бы мне еще раз увидать перед собой бескрайний простор моря, услышать шум волн, опуститься на землю в лесу и сквозь ветви следить за облаками, взобраться на вершину горы и взглянуть перед собой с высоты этого чистого одиночества на снежные вершины и темные лощины и на зеленеющую вдалеке долину, где едва виднеются люди…
Трудно, очень трудно от всего этого отказаться. Не от путешествий, а от природы. Но и этим я насладился. Помнишь, как стоя над Грассом я любовался радующим глаз видом на милые тихие деревушки с черепичными крышами (а как цвели мимозы!) и на Каннский залив, такого теплого сине-сиреневого цвета в тот предвечерний час. Я говорил себе: может, я всего этого больше никогда и не увижу, но я всегда буду помнить об этой красоте и о том, что сейчас думаю. И я не забыл. Как не забыл дюны Пилы или розовые скалы острова Бреа, или отвесную гору де ла Дан д’Орлю, или ветер в парусах на Чудском озере…
Надеюсь, что если меня расстреляют, то не в подвале, а на свежем воздухе, в чистом поле при свете розовой зари. И я знаю, что это последнее общение с природой по силе будет стоить и долгих лет и дальних странствий.
Книги, которые я мог бы прочесть? Будем откровенны: с возрастом круг чтения все больше смещается в сторону случайных книг (сюда я отношу и все научные издания). Несколько глав от Матфея, несколько мыслей Паскаля, отрывки из Ницше, немного Толстого, Жида, два-три стихотворения: таков итог моего чтения, если быть предельно откровенным. Есть, разумеется, немало вещей, которые мне хотелось бы прочитать или перечесть, но зачем непременно допивать до последней капли? Или ты и вправду рассчитываешь, что я натолкнусь там на откровение? Или полагаешь, что моя, мне одному предназначенная истина сокрыта в книге другого?
Я-2. — А как же те книги, которые ты сам мог бы написать?
Я-1. — Подумаешь! В юности был какой-то талант, но мне не хватило ни простодушия, чтобы воссоздать мир, ни глубины, чтобы объяснить его. Да и сейчас, если бы даже нашлось что сказать, – зачем? Я не честолюбив (возможно из-за того, что слишком горд) и не жажду славы. И что ты хочешь, чтобы я сказал людям, какую новую стоящую правду? Людям не нужна моя правда.
Я-2. — Да, поговорим о людях. На них тебе тоже наплевать, а? А как же друзья, родители? А Франция? Прости, если мой вопрос покажется тебе смешным, просто непременно найдутся люди, которые прицепят тебе ярлык «пал за Францию».
Я-1. — Ничего смешного. Может и не за что, но я люблю Францию. Люблю эту красивую страну, люблю ее народ. Да, я знаю насколько он мелочен, эгоистичен, прогнил политически, что он заложник своей былой славы, но и во всех этих грехах он остается бесконечно человечным и ни за что не поступится величием и немощью человеческими. Зачем вообще пытаться искать объяснений – признаем, что моя любовь к Франции это то, что Гёте называет «die Wahlverwandtschaft». Я не верю в ее полный упадок, хотя и предвижу долгие годы растерянности, обмана, малодушия. И для того, чтобы истинная Франция могла однажды воскреснуть, нужны жертвы. Поверь, напрасных жертв не бывает.
У меня есть родители и я глубоко к ним привязан, есть друзья. Поэтому я еще долго останусь жив в их памяти. Или ты хочешь пережить дорогих тебе людей и наблюдать, как они один за другим уходят? Ведь всякий раз это немного и твоя смерть. Получается как в истории про хозяина, который хвост псу рубил по кусочкам — из жалости!
Нет, я не издеваюсь над людьми. Ох, долго же это тянулось, но я научился их любить! Нередко я презираю их, ничего не поделаешь, но и презирая, я все же их люблю. И я никогда не руководствовался ненавистью (а жаль, мне недостает такого жизненного опыта), я на такое совершенно не способен; может, тоже из-за презрения. Если же начистоту, то я прекрасно обхожусь без людей. Одиночество никогда меня не тяготило. И потом, ты же знаешь: мы рождаемся и умираем в одиночку.
Я-2. — А жена?
Я-1. — Да, вот это действительно сильный удар… Я знаю, что мне от нее не оторваться. Но не думаешь ли ты, что эта любовь улетучится вместе с жизнью? Если так, то жизнь не стоила бы того, чтобы жить. Но успокойся: любовь это единственная доступная нам в мире сем реальность, она более реальна, чем жизнь и смерть.
Я-2. — Вижу, у тебя нет недостатка в ответах и находчивых доводах. Итак, ты полагаешь, что вправе покинуть эту столь любимую тобой землю без лишних сожалений и даже рассчитываешь на какие-то преимущества? Сколько ни пытайся, ты меня ничуть не убедил. Я знаю, что теряю, но не вижу, что нахожу. Не хочу подозревать тебя в лукавстве, но не пытаешься ли ты выставить зло благом?
Я-1. — Да если бы и так? Судьба подобна венцу — надо уметь носить ее. И перестань себя обманывать. Теперь мой черед. Пора напомнить тебе тебя самого. Слушай хорошенько.
Тебе тридцать три. Прекрасный возраст для смерти. Христос умер в эти годы, и Александр Македонский. Пушкин был застрелен в тридцать шесть, Есенин покончил с собой в тридцать. Не то, чтобы я хотел сравнивать тебя с ними, просто показать тебе, что и другие окончили жизнь в твои годы, исполнили свою миссию. У тебя не было миссии, но и тебе следовало «исполнить» свою жизнь, осуществить ее смысл. И я уверен, что ты сделал это и что тебе нечего добавить к жизни. Известно ли тебе, в чем смысл твоей жизни? Оглянись назад, ты увидишь, что твоим становлением было твое очеловечивание.
В последующие годы ты узнал две новых вещи: вечность и дружбу. Редкие и краткие мгновенья — как молния, — в которые ты познавал «вечную жизнь» (я использую твое выражение за неимением более подходящих слов), только усилили твое безразличие к жизни земной. Сама игра несколько утратила свою легкую прелесть. Дружба лишь усугубляла одиночество, твои друзья (я имею в виду Альфа, Вернера) были тебе только попутчиками, с которыми идешь до первого поворота, а там остаешься снова один. Впрочем, для друзей ты был слишком прямым, слишком непроницаемым. Ничего нет ясней и совершенней, чем безразличие. Узнаешь себя в этом чудовище?
Я-2. — Я не очень люблю слово «чудовище». Не будем преувеличивать. И почему ты не хочешь признавать значения этого безразличия? Если оно и не давало мне счастья, то по меньшей мере избавляло от страданий. Я не очень-то ценил жизнь, и потому мог легко и свободно наслаждаться всем и вся. Я порой жалею об этом состоянии.
Я-1. — А я нет. Да и что толку сожалеть. В один прекрасный день роскошное здание твоего безразличия рухнуло. Началось все со знакомства с твоей женой. Вначале ты не осознавал опасности, затем захотел дать задний ход, но было уже поздно, брешь была слишком велика. Все же ты еще несколько лет сражался, прежде чем признал свое поражение. И лишь совсем недавно ты понял, что это поражение было победой.
Я-2. — Да… У меня было такое чувство, словно соединяя наши жизни, я предаю самого себя; я терял свое будущее дикаря-одиночки… Но это было сильней меня: отныне я ощущал в себе человеческую душу.
Я-1. — Именно, и в этом суть твоего превращения. Не стану вдаваться в подробности: ты и сам знаешь, как все человеческие чувства постепенно просочились к тебе в душу. Ты узнал стыд, раскаяние, любовь к самому себе… Но прежде всего — ты познал любовь. Ты сам не осознавал, как мало-помалу стал привязываться к людям, к жизни: ты их полюбил.
Я-2. — Да, не осознавал. Я и сам нередко удивлялся. Когда я впервые по возвращении в Париж увидал немецких солдат, то острая физическая боль в сердце была мне знаком того, как же я люблю Париж и Францию. Но только теперь, в тюрьме я смог немного яснее увидеть то, что есть во мне, и открыть ту любовь, о которой ты говоришь.
Я-1. — Помнишь, как ты сказал на похоронах товарищей, погибших там, под Мэш: «Настанет день, когда мы, быть может, позавидуем их смерти»? Ну что, теперь завидуешь? Хотел бы ты умереть как они — не имея времени на страдание и страх? Скажи откровенно.
Я-2. — Нет, я ни за что не хотел бы этого лишиться. Я понял, чем может быть любовь. Правда, я страдал в тюрьме, но мне ведь всегда нравилось искать самое трудное. Зачем желать легкой смерти? Я достаточно гордый человек.
Я-1. — Вот в чем мы вполне согласны. Ты понял любовь и полюбил. О, твоя любовь еще довольно бедна и жалка, но все же она того же божественного происхождения, что и самая совершенная, та любовь, которую можно найти лишь в смерти. И ты полагаешь, что сможешь научиться чему-нибудь еще, даже если проживешь еще пятьдесят лет? Никогда тебе не стать богаче и свободней, чем теперь. Понимаешь, в чем суть? Ты не раз мог умереть, случаев было предостаточно. Но это была бы слишком легкая смерть. Что стоит безразличному человеку расстаться с жизнью? Но ты всегда выбираешь борьбу, победу или поражение.
Итак, сейчас, по-моему, самый подходящий момент. Ты полон сил, ты любишь жизнь со всем пылом неофита, со всей алчностью и свежестью молодости. Или ты думаешь, что сможешь вечно сохранять любовь невредимой?.. Или тебе нравится присутствовать при собственном закате, медленно и незаметно угасать, ни о чем уже не жалея, и в последнюю минуту вдруг осознать, что ты давно уже умер?
Я-2. — Ты все-таки полон парадоксов. Для чего было убеждать меня примириться со смертью, если ты видишь благо именно в том, чтобы я привязался к жизни? Или ты ищешь способ, как облегчить мне смерть?
Я-1. — О, об этом я совершенно не беспокоюсь. Если ты меня слушаешь и охотно принимаешь конец, то тогда уже я не согласен. Ведь в конечном счете, я это ты, а ты это я. И чем больше доводов в пользу смерти я нахожу, тем сильнее я привязываюсь к жизни, отчего моя гордость получает новый заряд и снова толкает меня к смерти.
Будь я христианином, имей веру… Но это было бы слишком просто. Я ничего не знаю о том, что за гробом. У меня одни сомненья. Все же вечная жизнь существует. Или это мой страх перед небытием заставляет меня верить в вечность? Но небытия же нет. Ты как думаешь?
Я-2. — Я знаю только одно: я люблю жизнь.
Я-1. – Значит, любовь существует. Остальное не так важно. Если же существует смерть, то она не что иное, как любовь.
Понедельник, 23 февраля 1942
(Последнее письмо Бориса Вильде жене, написанное из Френ за несколько часов до расстрела)
Любимая моя, милая Ирен,
простите, что обманул Вас: когда я вернулся, чтобы еще раз Вас поцеловать, то уже знал, что это будет сегодня. Если честно, то я горжусь своим обманом: Вы убедились, что я не был напуган и улыбался как обычно. Я вступаю в жизнь с улыбкой, как в новое приключение, с некоторым сожалением, но без угрызений совести и страха. По правде говоря, я уже так далеко продвинулся на пути смерти, что возврат к жизни представляется мне в любом случае слишком сложным, если не вовсе невозможным.
Дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом. Я дал Вам все, что мог. О Вас я не тревожусь: придет день, когда Вы не будете нуждаться ни во мне, ни в моих письмах, ни в моей памяти. В этот день мы соединимся в вечности, в настоящей любви. А до тех пор мое духовное присутствие (единственно истинное) будет с Вами неразлучно.
Вы знаете, как я люблю Ваших родителей, ставших и моими тоже. Благодаря таким французам как они, я научился знать и любить Францию, мою Францию. Пусть моя кончина станет для них более гордостью, чем горем.
Я очень люблю Эвелин и уверен, что она будет жить и работать на благо новой Франции. С братскими чувствами думаю обо всем семействе Ман. Постарайтесь смягчить известие о моей смерти для матери и сестры; я часто вспоминал о них, о детстве. Передайте всем друзьям мои благодарность и любовь.
Не хотелось бы, чтобы наша смерть стала поводом для ненависти к Германии. Я боролся за Францию, но не против немцев. Они выполняют свой долг, как мы выполняли свой.
Достаточно, чтобы после войны нам воздали должное. Впрочем, друзья из Музея человека нас не забудут.
Дорогая моя, я восхищаюсь Вашей выдержкой и уношу с собой память о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбнуться, когда получите это письмо, как улыбаюсь я, когда пишу его (я только что посмотрелся в зеркало и обнаружил там свое обычное лицо). Мне на ум пришло четверостишие, написанное мной четыре недели назад:
Comme toujours impassible
Et courageux (inutilement)
Je servirai de cible
Aux douze fusils allemands*.
* Как всегда невозмутим
И отважен (без пользы)
Я послужу мишенью
Двенадцати немецким винтовкам.
Честно говоря, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть для меня это осуществление Великой Любви, вхождение в подлинную реальность. На земле возможностью такого осуществления были Вы. Гордитесь.
Сохраните как последнюю память обо мне это обручальное кольцо: я целую его, снимая.
Это же прекрасно — умереть в добром здравии, в ясном уме, в полноте душевных сил. Такой конец по мне, в этом нет сомнений, и это лучше, чем внезапно пасть на поле боя или медленно угаснуть от мучительной болезни.
Вот, думаю, и все, что я хотел сказать. Кроме того, уже пора. Я видел кое-кого из друзей, они бодры и меня это радует.
Любовь моя, милый зверик, бесконечная нежность к Вам поднимается из глубины моей души. Я ощущаю Вас подле себя, совсем близко. Я окружен Вашей любовью, нашей любовью, которая сильнее смерти. Не станем сожалеть о нашем бедном счастье, это такой пустяк в сравнении с нашей радостью. Как все ясно! Вечное солнце любви встает из пучины смерти.
Возлюбленная моя, я готов, я иду. Я покидаю Вас, чтобы вновь встретить в вечности.
Благословляю жизнь, щедро меня одарившую.
Навсегда Ваш
Борис
